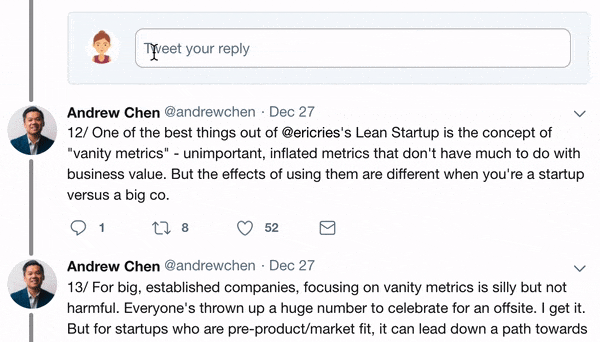У Серёжи, когда он вот-вот заплачет, голос ломкий всегда, как первый весенний лед. Не обманывается никто, в первую очередь сам Серёжа, но он всё равно старается, потому что зареветь, даже сейчас, когда рядом уже никого, будет всё равно что расписаться в чужой победе.
— Знаешь, мне не обидно, — повторяет он в третий раз за последние пять минут. — Нет ничего обидного в том, чтобы быть геем.
Олег не перебивает. Молча давит на рычаг, чтобы из колонки продолжала течь струйка ледяной воды. Серёжа трет куском хозяйственного мыла розовую рубашку.
Олег не перебивает. Молча давит на рычаг, чтобы из колонки продолжала течь струйка ледяной воды. Серёжа трет куском хозяйственного мыла розовую рубашку.
На рубашке пятна: землистые, травяные и еще какие-то неприятные, потому что сверху его полили чем-то остро пахнущим. Кажется, бензин, или какое-то машинное масло, потому что запах немного напоминает старый гараж. И отстирывается очень плохо. В детдоме такое сразу выкинут.
— Меня просто злит, — и Серёже нравится, как это звучит, потому что злость это что-то правильное, серьёзное и мужественное, а обида — это по-девчачьи, хотя, конечно, нет ничего плохого в девчачьем, если ты не такой ограниченный, как тупые серёжины одноклассники; — Меня злит,
что какие-то полудурки мыслят такими стереотипами, понимаешь? Как будто если я надел розовую рубашку, мне сразу начнут нравиться парни. Или как будто мне начнут нравиться парни, потому что я отращиваю волосы. Или как будто парни мне будут нравиться, потому что я не люблю футбол.
Вот и всё. Серёже не обидно, Серёжу просто злит человеческая тупость. И испорченная розовая рубашка. Она такая среди пожертвований детдому была одна, и Серёжа чудом успел выхватить её из коробки, пока её не отправили на свалку как неформат. А что, ему не может нравиться розовый,
если он не гей? А Серёжа не гей. Что бы ему ни кричали в спину в школе всякие уроды.
— Я могу хоть платье надеть, это не сделает меня геем, понимаешь? — обращается он требовательно к Олегу.
— Понимаю, — говорит Олег. — У тебя пальцы уже красные. Давай махнемся.
— Я могу хоть платье надеть, это не сделает меня геем, понимаешь? — обращается он требовательно к Олегу.
— Понимаю, — говорит Олег. — У тебя пальцы уже красные. Давай махнемся.
Пальцы правда замерзли. Серёжа наваливается на рычаг грудью, а пальцы прячет в карманы, и чуть не хнычет, когда они начинают отогреваться. Олег занимает его позицию перед бьющей из крана струей, ожесточенно трет ткань куском мыла.
— Например, древние спартанцы были воинами.
— Например, древние спартанцы были воинами.
Помнишь же? История древнего мира, пятый класс. Страшная сила. Бородатые, вонючие мужики. И сколько среди них было геев? Аж до наших времен дошло.
— Справедливости ради, — встревает Олег, — спартанцы носили юбки.
— Ты про шотландцев?
— Нет, я про эти кожаные штуки у доспехов.
— Справедливости ради, — встревает Олег, — спартанцы носили юбки.
— Ты про шотландцев?
— Нет, я про эти кожаные штуки у доспехов.
Серёжа раздраженно морщит нос.
— Это были не юбки, Олег.
— Знаю. Я просто пошутил.
— Тупая шуточка. Не лучше, чем у тех идиотов.
— Ну ладно, прости.
Серёжа прощает, конечно. Потому что ему не обидно и шуточки про юбки его никак не задевают. Хотя бы потому что он не гей.
— Это были не юбки, Олег.
— Знаю. Я просто пошутил.
— Тупая шуточка. Не лучше, чем у тех идиотов.
— Ну ладно, прости.
Серёжа прощает, конечно. Потому что ему не обидно и шуточки про юбки его никак не задевают. Хотя бы потому что он не гей.
Серёжа совершенно нормальный, просто все эти издевки с самого детства, фу, длинные волосы, как у педика, лол, смотрите, фиолетовый свитер, как у педика, ууу, смотрите, заревел, точно педик — они ему поперек горла.
— Мылом мы тут не отмоем. Завтра попрошу у трудовика что-нибудь.
— Мылом мы тут не отмоем. Завтра попрошу у трудовика что-нибудь.
Олег разгибается, выжимает накрепко мокрую рубашку. От колонки они идут на детскую площадку, вешают рубашку сушиться на турник, а сами растягиваются на жухлой траве. Олег ложится, закинув руки за голову, Серёжа рядом сидит, ковыряется палкой в земле.
— Просто злюсь, и всё.
— Просто злюсь, и всё.
Почему я не могу надеть розовое без того, чтобы меня обозвали? Почему люди определяют ориентацию по длине волос?
Олег пожимает плечами.
— Потому что люди идиоты.
Серёжа вздыхает. Он сторонник романтических идеалов эпохи возрождения и считает, что люди прекрасны. Но в теории.
Олег пожимает плечами.
— Потому что люди идиоты.
Серёжа вздыхает. Он сторонник романтических идеалов эпохи возрождения и считает, что люди прекрасны. Но в теории.
А на практике каждый отдельный человек это мерзкая, тупая, ограниченная личность, которая плюет в лицо тому, кто собирается облагодетельствовать этот мир как минимум парой гениальных изобретений. Пошли они все в жопу. Вот не будет делать мир лучше, посмотрим, как они запоют.
— А тебе было бы не так обидно, если бы ты был геем и тебя все равно называли геем?
Олег переворачивается на бок, подкладывает под голову локоть и смотрит на Серёжу. Серёжа передергивает плечами.
— Не знаю. Наверное. Тогда это хотя бы была правда. А сейчас просто дразнятся.
Олег переворачивается на бок, подкладывает под голову локоть и смотрит на Серёжу. Серёжа передергивает плечами.
— Не знаю. Наверное. Тогда это хотя бы была правда. А сейчас просто дразнятся.
Серёжа вдруг подозрительно щурится на Олега, и внутри становится неприятно и холодно.
— А что? Ты же не думаешь, что я гей? Ну, как эти троглодиты, только потому что я так одеваюсь и принимаю душ чаще раза в месяц?
Олег молчит недолго (но все равно слишком долго, на взгляд
— А что? Ты же не думаешь, что я гей? Ну, как эти троглодиты, только потому что я так одеваюсь и принимаю душ чаще раза в месяц?
Олег молчит недолго (но все равно слишком долго, на взгляд
Серёжи), потом переворачивается обратно на спину.
— Да нет. Просто ты так об этом говоришь, как будто это самое обидное, что тебе кричали. А тебя еще называют девчонкой, шизиком, сироткой, шлюхой...
— Чего?!
— Кто-то пустил слух, что ты трахался с математиком. Нищебродом,
— Да нет. Просто ты так об этом говоришь, как будто это самое обидное, что тебе кричали. А тебя еще называют девчонкой, шизиком, сироткой, шлюхой...
— Чего?!
— Кто-то пустил слух, что ты трахался с математиком. Нищебродом,
павлином, ублюдком, жертвой аборта, нюней, плаксой...
— Хватит, — Серёжа раздраженно вспыхивает. Олег пожимает плечами.
— Ну вот. А ты так злишься только на гея.
— Ну потому что, — Серёжа вспыхивает сильнее. — Это другое.
— Почему?
— Потому что. Заебало меня, понял?
— Хватит, — Серёжа раздраженно вспыхивает. Олег пожимает плечами.
— Ну вот. А ты так злишься только на гея.
— Ну потому что, — Серёжа вспыхивает сильнее. — Это другое.
— Почему?
— Потому что. Заебало меня, понял?
— Да понял, понял, не ругайся.
Серёжа утыкается лбом в колени, ожесточенно втыкает палку в землю, вынимая целые комья, вместе с травой и мелким мусором. И так злит, и тут ещё Олег с тупыми вопросами. Как будто не понятно, почему человеку может быть неприятно, когда про него
Серёжа утыкается лбом в колени, ожесточенно втыкает палку в землю, вынимая целые комья, вместе с травой и мелким мусором. И так злит, и тут ещё Олег с тупыми вопросами. Как будто не понятно, почему человеку может быть неприятно, когда про него
сочиняют всякое. Всё-таки иногда Олег чудовищно нечуткий, по нему сразу видно личность без тяги к прекрасному. Хотя он всё ещё в разы лучше, чем эти уебки из десятого А. Самый лучший в мире Олег, хоть иногда и тактичный, как армейский сапог сорок пятого размера.
— Думаю, я гей.
— Думаю, я гей.
Серёжа застывает с занесенной над комком грязи палкой.
— Что?
— Думаю, я гей, — повторяет Олег. Он все еще лежит в той же позе, только под головой один локоть, а вторым он закрыл от солнца глаза, оно хоть и по-весеннему жидкое и почти не греет, но светит ярко.
— Что?
— Думаю, я гей, — повторяет Олег. Он все еще лежит в той же позе, только под головой один локоть, а вторым он закрыл от солнца глаза, оно хоть и по-весеннему жидкое и почти не греет, но светит ярко.
— Это шутка такая?
— Нет.
Серёжа опускает палку. У Серёжи внутри что-то непонятное скребется и перекручивается, не вдохнуть толком. Только и бьется в такт пульсу: да ну, да не может быть.
— С чего это тебе в голову взбрело?
— Ну, мне нравятся парни. С того и взбрело.
— Нет.
Серёжа опускает палку. У Серёжи внутри что-то непонятное скребется и перекручивается, не вдохнуть толком. Только и бьется в такт пульсу: да ну, да не может быть.
— С чего это тебе в голову взбрело?
— Ну, мне нравятся парни. С того и взбрело.
— Тебе не нравятся парни, — немедленно возражает Серёжа и тут же прикусывает язык. — В смысле, ты такого раньше не говорил!
— А теперь сказал.
Серёже хочется закричать. Серёже хочется сказать: ты ударился головой, или тебе напекло. Такие вещи вот так внезапно не всплывают.
— А теперь сказал.
Серёже хочется закричать. Серёже хочется сказать: ты ударился головой, или тебе напекло. Такие вещи вот так внезапно не всплывают.
Ты бы раньше сказал. Я бы раньше заметил. Олег, ну ты посмотри на себя, ты весь в черной коже и с щетиной, ты выглядишь как антипод гея, ты выглядишь как тот, кто таких, как я — кто похож на геев, а я и не отрицаю, — должен бить ногами за школой. Это же бред, так не бывает.
Серёжу почти потряхивает, а Олег хоть бы хны, лежит спокойный. Может, всё-таки шутка? Чувство юмора у Олега дурацкое, не лучше, чем у других пацанов в классе. Точно, шутка. Сейчас Серёжа что-нибудь скажет, а Олег в ответ такой: ха-ха, повелся, ну ты и лошара, Серый.
От этой мысли тоже почему-то страшно обидно. Серёже вообще: страшно и обидно. И непонятно. И снова накатывает злость, потому что зачем Олег делает это с ним и заставляет думать всякое, как будто ему своих проблем мало?
— Угу. Замечательно.
— Не слишком-то замечательно.
— Угу. Замечательно.
— Не слишком-то замечательно.
Ещё и звучит недовольно. Прекрасно. Серёжа выдыхает через нос, заставляет себя разжать пальцы, а то палка того и гляди треснет.
— Ты серьёзно? Потому что если ты всё-таки так пошутил, я с тобой разговаривать до конца четверти не буду.
— У тебя странные представления о шутках.
— Ты серьёзно? Потому что если ты всё-таки так пошутил, я с тобой разговаривать до конца четверти не буду.
— У тебя странные представления о шутках.
Серёжа бы припомнил Олегу пару его шуточек, которые были и постраннее, но сдерживается и только сопит. Олег тоже сопит. В небе чирикают птички. Есть ли геи среди птичек? В учебнике по биологии об этом не написано, а энциклопедии про птиц Серёжа не изучал, повода не было.
— То есть, тебе нравятся парни.
— Ага. Дошло. Рад за тебя.
— Иди ты. Давно?
— Ну, так, — Олег невнятно двигает плечами, не убирая руку с лица. — С начала десятого класса точно.
— По идее, ты должен был заметить раньше.
— А ты у нас эксперт?
— Я вообще-то книжки читал, Олег.
— Ага. Дошло. Рад за тебя.
— Иди ты. Давно?
— Ну, так, — Олег невнятно двигает плечами, не убирая руку с лица. — С начала десятого класса точно.
— По идее, ты должен был заметить раньше.
— А ты у нас эксперт?
— Я вообще-то книжки читал, Олег.
— Да, точно. Это я читал букварь и синенькую.
— Олег, я не об этом, и ты это знаешь, — вспыхивает Серёжа. — Не дуйся, я пытаюсь разобраться. Тебе нравятся парни вообще или кто-то конкретный?
— А что?
— Ну, знаешь, у тебя сейчас такой возраст, когда стоит на кафель в душевой.
— Олег, я не об этом, и ты это знаешь, — вспыхивает Серёжа. — Не дуйся, я пытаюсь разобраться. Тебе нравятся парни вообще или кто-то конкретный?
— А что?
— Ну, знаешь, у тебя сейчас такой возраст, когда стоит на кафель в душевой.
— В смысле?
— Я к тому что может ты никакой не гей, просто... перепутал здоровый юношеский стояк и влечение. Так бывает, — Серёжа нравится эта мысль, прям от сердца отлегает. Никакой Олег не гей, и это значит... что? Мысль прокручивается вхолостую.
— Нравится, — говорит Олег.
— Я к тому что может ты никакой не гей, просто... перепутал здоровый юношеский стояк и влечение. Так бывает, — Серёжа нравится эта мысль, прям от сердца отлегает. Никакой Олег не гей, и это значит... что? Мысль прокручивается вхолостую.
— Нравится, — говорит Олег.
— Что?
— Всё нравится. И просто парни. И кто-то конкретный.
Мысль докручивается и бьет Серёжу, как аптечная резинка, оттянутая злодейской рукой. Аж вздрагивает.
— Кто?
— Какая разница? Я тебе уже сказал всё что хотел и не хотел. Или тебе перечислить всё, на что я дрочу?
— Всё нравится. И просто парни. И кто-то конкретный.
Мысль докручивается и бьет Серёжу, как аптечная резинка, оттянутая злодейской рукой. Аж вздрагивает.
— Кто?
— Какая разница? Я тебе уже сказал всё что хотел и не хотел. Или тебе перечислить всё, на что я дрочу?
Птички вдруг отходят на второй план.
— Олег.
Молчит.
— Олеж. Ты чего? Обиделся?
Молчит, но, кажется, ещё молчаливее. Серёжа пересаживается ближе, осторожно кладет ладонь на плечо. Стряхивает. Тогда кладет на голову, на мягкие растрепанные волосы. Короткие, не то что у Серёжи.
— Олег.
Молчит.
— Олеж. Ты чего? Обиделся?
Молчит, но, кажется, ещё молчаливее. Серёжа пересаживается ближе, осторожно кладет ладонь на плечо. Стряхивает. Тогда кладет на голову, на мягкие растрепанные волосы. Короткие, не то что у Серёжи.
Нормальная пацанская стрижка, в начале года вообще была под машинку, а сейчас отросла.
— Олеж, не обижайся.
— Я не обиделся.
— Олеж, прости. Ну прости, пожалуйста, а? Я просто... ты просто... ну, вот так... я не ожидал. Но если ты говоришь, что гей, то я тебе верю, конечно.
— Олеж, не обижайся.
— Я не обиделся.
— Олеж, прости. Ну прости, пожалуйста, а? Я просто... ты просто... ну, вот так... я не ожидал. Но если ты говоришь, что гей, то я тебе верю, конечно.
Молчит, посапывая. Потом снова дергает плечом.
— Да ладно. Я бы тоже охуел. Проехали.
— Ага, — Серёжа с облегчением выдыхает. Тянет немного Олега за волосы, и он неохотно убирает руку с лица, поднимается на локтях и садится рядом, плечом к плечу. Трет глаза основаниями ладоней.
— Да ладно. Я бы тоже охуел. Проехали.
— Ага, — Серёжа с облегчением выдыхает. Тянет немного Олега за волосы, и он неохотно убирает руку с лица, поднимается на локтях и садится рядом, плечом к плечу. Трет глаза основаниями ладоней.
— Не будешь сердиться, Олеж?
— Не буду.
Ворчливо. Но это ничего, Олег отходчивый.
— Всё хорошо? — уточняет Серёжа на всякий случай. Олег мычит что-то, вроде бы согласное, зарывается пальцами в сырую землю, мнет комья подушечками.
— Так ты... не против?
— Не против чего?
— Не буду.
Ворчливо. Но это ничего, Олег отходчивый.
— Всё хорошо? — уточняет Серёжа на всякий случай. Олег мычит что-то, вроде бы согласное, зарывается пальцами в сырую землю, мнет комья подушечками.
— Так ты... не против?
— Не против чего?
Серёжа сначала моргает, потом вдруг снова наваливается осознание, тяжелое, как груда кирпичей, и он быстро впивается Олегу в плечи, прижимает к себе как может крепко, почти залезает сверху.
— Олеж, ты что, ты дурак, конечно, нет, конечно, какое против, как я могу быть против?
— Олеж, ты что, ты дурак, конечно, нет, конечно, какое против, как я могу быть против?
— Ну, не знаю, — бормочет Олег глухо, утыкаясь лицом ему в грудь. — Ты всегда так злишься, когда дразнятся...
— Ну так то дразнятся. Олег, это же к тебе отношения не имеет, я бы никогда, конечно, ты мой лучший друг!
— Правда? — Серёжа в этот момент готов разрыдаться, потому что
— Ну так то дразнятся. Олег, это же к тебе отношения не имеет, я бы никогда, конечно, ты мой лучший друг!
— Правда? — Серёжа в этот момент готов разрыдаться, потому что
такого растерянного голоса он у Олега не слышал никогда, а он знает его с десяти лет, помнит вот таким крошечным и несчастным в его первые дни в детдоме.
— Конечно, правда.
— Хорошо...
Они сидят так еще немного. Весеннее солнце, хоть и слабенькое, всё-таки начинает припекать.
— Конечно, правда.
— Хорошо...
Они сидят так еще немного. Весеннее солнце, хоть и слабенькое, всё-таки начинает припекать.
Рубашка, наверное, подсохла уже, можно спрятать в рюкзак и возвращаться в детдом, и так влетит, что после школы загуляли.
— Думаю, это даже полезно, что я похож на гея, а ты нет, — рассуждает Серёжа. — Вот и пусть меня дразнят, идиоты. Мне-то что? А про тебя и не догадаются.
— Думаю, это даже полезно, что я похож на гея, а ты нет, — рассуждает Серёжа. — Вот и пусть меня дразнят, идиоты. Мне-то что? А про тебя и не догадаются.
— Ага.
— Но ты точно уверен, Олег? Знаешь, нет ничего плохого в том, чтобы подумать, что ты гей, а потом понять, что ты просто запутался.
— А ты точно уверен, что натурал, Серёж?
У Серёжи снова что-то тревожно поджимается внутри, и хочется ответить Олегу едко, что он-то
— Но ты точно уверен, Олег? Знаешь, нет ничего плохого в том, чтобы подумать, что ты гей, а потом понять, что ты просто запутался.
— А ты точно уверен, что натурал, Серёж?
У Серёжи снова что-то тревожно поджимается внутри, и хочется ответить Олегу едко, что он-то
нормальный, не надо всех мерять по себе. За это немедленно становится стыдно, как холодной водой окатило.
— Уверен, Олеж.
— Ну вот и я тогда уверен, — он шмыгает носом, на этот раз отчетливо, и встает, принимаясь отряхивать от земли задницу джинс. — Пойдем, на батарее досушим.
— Уверен, Олеж.
— Ну вот и я тогда уверен, — он шмыгает носом, на этот раз отчетливо, и встает, принимаясь отряхивать от земли задницу джинс. — Пойдем, на батарее досушим.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh