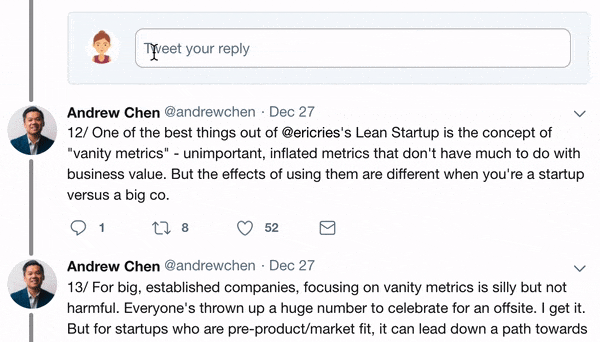#сероволки #мгчд
— Сиди спокойно, — голос у Олега строгий, сам он совершенно спокоен, а каждое движение отточено едва ли не до автоматизма.
— Шшш! — Серёжа шипит, губы кусает и инстинктивно дёргается, потому что любое прикосновение отдаётся жгучей болью.
— Сиди спокойно, — голос у Олега строгий, сам он совершенно спокоен, а каждое движение отточено едва ли не до автоматизма.
— Шшш! — Серёжа шипит, губы кусает и инстинктивно дёргается, потому что любое прикосновение отдаётся жгучей болью.
У него разорваны брюки и кожа стёсана по колену и половине голени, а ещё на обеих ладошках. Кровь стекает алыми ручьями поверх дорожной пыли-грязи, которую он успел собрать во время падения, и Разумовский честно не знает, за что хвататься первым.
— Руки давай.
— Руки давай.
Олег льёт на подставленные ладони холодную минералку. Серёжа аккуратно смывает грязь, кровь, шипит сквозь стиснутые зубы.
— Ну вроде не так страшно, — он вытягивает перед собой обе ладони, поворачивает, оценивая масштаб полученных травм.
— Ну вроде не так страшно, — он вытягивает перед собой обе ладони, поворачивает, оценивая масштаб полученных травм.
— Ногу тоже промыть надо, — Олег кивает головой на разорванную штанину, ставя бутылку рядом с собой. Тонкая ткань жалобно трещит и расходится под натиском сильных рук — Волков не церемонится, разрывает чуть ли не до пояса.
— Мне они нравились, — Серёжа смотрит с наигранной грустью, помогая подвернуть остатки штанины, чтобы не мешали.
— А мне ты нравишься, Серёженька, — Олег поливает водой ногу, осторожно, небольшими порциями, чтобы не дай бог не травмировать ещё больше.
— А мне ты нравишься, Серёженька, — Олег поливает водой ногу, осторожно, небольшими порциями, чтобы не дай бог не травмировать ещё больше.
Серёженька — он же такой нежный, такой хрупкий, почти что фарфоровый. Разве можно ему больно сделать, пусть даже случайно?
Нельзя.
Олег прикасается самыми подушечками пальцев, смывает грязь и кровавые потёки.
Нельзя.
Олег прикасается самыми подушечками пальцев, смывает грязь и кровавые потёки.
У Разумовского кожа молочно-белая, светлая, тонкая — голубой рисунок вен просвечивает у него повсюду.
— Полноги содрал, — выносит Олег свой «вердикт», убирая воду в сторону. Достаёт из аптечного пакетика перекись и салфетки.
— Тс-с-с-с!
— Полноги содрал, — выносит Олег свой «вердикт», убирая воду в сторону. Достаёт из аптечного пакетика перекись и салфетки.
— Тс-с-с-с!
Серёжа шипит и дёргается инстинктивно, когда рана покрывается розовато-белой пышной пеной.
— Терпи, родной, нужно обеззаразить, — Олегу на секунду кажется, что нифига им не под тридцать, а по десять всего. Он и в том возрасте уже Разумовскому раны обрабатывал самостоятельно.
— Терпи, родной, нужно обеззаразить, — Олегу на секунду кажется, что нифига им не под тридцать, а по десять всего. Он и в том возрасте уже Разумовскому раны обрабатывал самостоятельно.
— Олеж, щиплет, — Серёжа даже куксится совсем как тогда, губы дует. Дитё малое.
— Надо убрать заразу, — Олег улыбается, промакивая образовавшуюся пену и заливая рану по новой. Дует осторожно, тоже как тогда совсем.
— Надо убрать заразу, — Олег улыбается, промакивая образовавшуюся пену и заливая рану по новой. Дует осторожно, тоже как тогда совсем.
Вообще, обычно всё было наоборот — обычно Серёжа обрабатывал и бинтовал Олегу сбитые костяшки, мазал синяки, заливал йодом. Волков так часто ввязывался в драки с другими ребятами, что они даже натаскали в свою комнату небольшую аптечку, чтобы не бегать постоянно в медпункт.
Но Волков всегда был терпеливым, спокойным как камень — пару раз приходилось спиртом обрабатывать — даже бровью не вёл. Сидел послушно, наблюдал за причитающим истерично Серёжей, бинтовавшим ему руки или ноги.
#сероволки #мгчд
#сероволки #мгчд
— Серёж, это просто рана, — говорил он тогда, гладил свободной рукой чужую макушку и заправлял за ухо пряди рыжих волос.
— Это опять из-за меня! Опять ты с Кири... — договорить тогда не дал палец, лёгший на губы, призывая к молчанию.
— Это опять из-за меня! Опять ты с Кири... — договорить тогда не дал палец, лёгший на губы, призывая к молчанию.
— Я никому не позволю тебя обижать. Или говорить про тебя гадости.
И взгляд глаза-в-глаза. Проникновенно, открыто, уверенно.
— Ты всю жизнь собрался меня оберегать? — Серёжа улыбается смущённо и прячет розовеющие щёки за спадающими волосами.
И взгляд глаза-в-глаза. Проникновенно, открыто, уверенно.
— Ты всю жизнь собрался меня оберегать? — Серёжа улыбается смущённо и прячет розовеющие щёки за спадающими волосами.
— Кто, если не я? Вот станешь ты известным программистом, кто тебя будет спасать от бандитов? — Олег смеётся. — Тебе будет нужен телохранитель.
— В таком случае, Олег Волков, вы официально назначены первым и единственным верным рыцарем Сергея Разумовского! До конца своей жизни!
— В таком случае, Олег Волков, вы официально назначены первым и единственным верным рыцарем Сергея Разумовского! До конца своей жизни!
«Рыцарем...»
Олег стал им. Далеко не только им.
Другом. Братом. Защитником. Помощником. Любовником. Опорой. Поддержкой. Заботой. Концентратом уверенности, спокойствия. Синонимом безопасности, уюта, дома.
Олег Волков — намного больше, чем просто телохранитель.
Олег стал им. Далеко не только им.
Другом. Братом. Защитником. Помощником. Любовником. Опорой. Поддержкой. Заботой. Концентратом уверенности, спокойствия. Синонимом безопасности, уюта, дома.
Олег Волков — намного больше, чем просто телохранитель.
В «Радуге» учителя и воспитатели часто смеялись, что они с Серёжей как в том стихотворении «Мы с Тамарой ходим парой». Потому что с того дня, как они познакомились, по отдельности никто их не заставал.
Никто. Даже спустя почти двадцать лет.
Никто. Даже спустя почти двадцать лет.
Олег по-прежнему следует за Разумовским тенью, защищает от возможных угроз, не даёт усердствовать журналистам, следит, чтобы питался нормально, спать ложился вовремя, не сидел за компьютером круглыми сутками, гулял хотя бы изредка, отдыхал полноценно.
Травмы вот, обрабатывал должным образом.
— Олеж, ты весь бутылёк решил за раз вылить? — Серёжа уже не дёргается, болтает целой ногой, смотрит, как Волков обрабатывает рану, всё ещё рубиново-красную, но уже не сочащуюся кровью так сильно.
— Олеж, ты весь бутылёк решил за раз вылить? — Серёжа уже не дёргается, болтает целой ногой, смотрит, как Волков обрабатывает рану, всё ещё рубиново-красную, но уже не сочащуюся кровью так сильно.
— Могу искупать в перекиси всего, чтобы уж точно никакой заразы не осталось, — Олег смеётся неслышно. Убирает бутылёк в сторону, обхватывает пальцами за лодыжку, поглаживает остро торчащие косточки голеностопа. Серёжа весь — кожа да кости.
— Олеж...
Волков держит крепко; слегка, аккуратно очень, тянет на себя серёжину ногу и невесомо прикасается губами к коленке. Целует заботливо, нежно. Потому что Серёжа — самое ценное, что есть в его жизни. Серёжа — единственное, что ему вообще нужно в жизни.
Волков держит крепко; слегка, аккуратно очень, тянет на себя серёжину ногу и невесомо прикасается губами к коленке. Целует заботливо, нежно. Потому что Серёжа — самое ценное, что есть в его жизни. Серёжа — единственное, что ему вообще нужно в жизни.
— О-олеж... — Разумовский смущается, стыдливо прячет лицо за волосами. Ничуть не изменился с детства. — Не надо, мы же в общественном месте.
— Я твой телохранитель, — Волков невозмутим и спокоен. — А твоё тело пострадало. Должен же я исправить недоразумение.
— Я твой телохранитель, — Волков невозмутим и спокоен. — А твоё тело пострадало. Должен же я исправить недоразумение.
Он проходится цепочкой нежных, неощутимых почти поцелуев по краям раны, и это почти щекотно. Пальцы на ногах поджимаются от ощущения тёплого дыхания на коже, и вдоль позвоночника прокатывается горячая волна. Дыхание схватывает.
— Надо закончить с обработкой, — Волков смотрит исподлобья, всё ещё держит в кольце своей ладони узкую щиколотку. — Домой?
Серёжа кивает молча, потому что даже пульсация в ноге отходит на второй план. Внизу живота разгорается пожар.
Олег знает, как отвлечь его.
Серёжа кивает молча, потому что даже пульсация в ноге отходит на второй план. Внизу живота разгорается пожар.
Олег знает, как отвлечь его.
— Тогда позвольте, — Олег улыбается,
одним грациозным движением поднимается на ноги и протягивает Разумовскому руку, словно приглашает на танец
Серёжа краснеет до кончиков ушей, что-то шепчет невнятно, будто бы в попытке отказаться. Но руку послушно подаёт.
одним грациозным движением поднимается на ноги и протягивает Разумовскому руку, словно приглашает на танец
Серёжа краснеет до кончиков ушей, что-то шепчет невнятно, будто бы в попытке отказаться. Но руку послушно подаёт.
Олег осторожно берёт его под колени и спину, поднимает на руки как принцессу и прижимает к своей груди, стараясь устроить больную ногу с максимальным комфортом. Чтобы не болтало сильно, не трясло и не доставляло излишнего дискомфорта.
— Пора возвращаться в наш замок, /миледи/.
— Пора возвращаться в наш замок, /миледи/.
— Иди ты! — бормочет Серёжа и шутливо бьёт ладонью по плечу. Ерзает нарочито сильно, капризничает, чувствуя, как в ответ его только прижимают крепче.
@threadreaderapp
unroll
unroll
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh